
Весь контент Web2Health проверяется медицинскими экспертами, чтобы обеспечить максимально возможную точность и соответствие фактам.
У нас есть строгие правила по выбору источников информации и мы ссылаемся только на авторитетные сайты, академические исследовательские институты и, по возможности, доказанные медицинские исследования. Обратите внимание, что цифры в скобках ([1], [2] и т. д.) являются интерактивными ссылками на такие исследования.
Если вы считаете, что какой-либо из наших материалов является неточным, устаревшим или иным образом сомнительным, выберите его и нажмите Ctrl + Enter.
Микробиота матери программирует развитие узла стресса у будущего детёныша
Последняя редакция: 14.08.2025
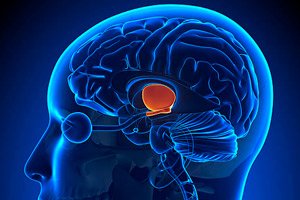 ">
">В Hormones and Behavior вышла работа, показывающая, что кишечная микробиота задаёт параметры развития паравентрикулярного ядра гипоталамуса (PVN) — ключевого центра стресс-реакции. У мышей, выращенных без микробов (germ-free, GF), в PVN оказалось меньше клеток как в неонатальном периоде, так и во взрослом возрасте, причём без изменения объёма ядра (то есть падает именно клеточная плотность). Перекрестное вскармливание показало, что эффект программируется ещё до рождения — через материнскую микробиоту.
Фон
Что такое PVN и почему он важен?
Паравентрикулярное ядро гипоталамуса (PVN) — «узел» стресс-системы: его CRH-нейроны запускают гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковую (HPA) ось и влияют на поведение, мотивацию, водно-солевой баланс и энергообмен. Поэтому любые сдвиги в клеточном составе PVN потенциально меняют реактивность к стрессу и гомеостаз.
Микробиота и стресс-ось: классические данные
Ещё в «классических» опытах показано: у мышей, выращенных без микробов (germ-free, GF), стресс-ответ HPA оси гиперреактивен; колонизация «дружественными» бактериями (например, Bifidobacterium) частично нормализует этот фенотип. Это стало первой прямой подсказкой, что кишечные микробы «настраивают» стрессовую нейроэндокринную систему.
Материнская микробиота и пренатальное развитие мозга
Позже выяснилось, что эффект начинается ещё до рождения: истощение микробиоты у беременных самок (антибиотики/GF) нарушает экспрессию генов аксоногенеза у эмбриона и формирование таламокортикальных путей; вероятные медиаторы — микробно-модулируемые метаболиты, которые сигналят к развивающемуся мозгу. Это зафиксировано в работах уровня Nature.
Нейроиммунная «передаточная шестерня»: микроглия
Кишечные микробы управляют созреванием и функцией микроглии — главных «садовников» развивающегося мозга, которые регулируют апоптоз/обрезку синапсов и воспалительные ответы. При отсутствии микробиоты микроглия незрелая и функционально дефектная; восстановление микробного сообщества частично спасает фенотип. Это даёт механизм, как периферийная микробиота может перепрошивать нейрональные контуры.
Почему фокус именно на PVN сейчас?
PVN — вершина HPA и одновременно узел, чувствительный к ранним стрессорам и нутритивным сигналам. Появились данные, что активность PVN^CRH-нейронов не только управляет кортизоловым откликом, но и влияет на поведение/мотивацию; следовательно, изменения в клеточной архитектуре PVN могут иметь долгосрочные последствия для стрессоустойчивости.
Чего не хватало до нынешней работы
Было известно, что (а) микробиота «крутит» HPA-ось и (б) материнская микробиота программирует траектории нейроразвития. Но оставался пробел: есть ли у этого анатомический след именно в PVN — изменяется ли число/плотность клеток и когда открыто «окно чувствительности» (до или после рождения)? Работа в Hormones and Behavior как раз закрывает этот геп: при отсутствии микробиоты у мышей снижается число клеток PVN у новорождённых и взрослых без изменения объёма ядра, а перекрёстное вскармливание показывает, что программирование начинается пренатально.
Импликации и следующая миля
Если материнская микробиота задаёт клеточную плотность PVN ещё в утробе, то модификаторы микробиоты (питание матери, антибиотики, инфекции, пробиотики/постбиотики) могут влиять на «настройку» стресс-оси у потомства. Дальше потребуются: одноклеточные профили PVN (какие именно нейроны — CRH/AVP/OT — затронуты), тесты функции HPA и поведенческие фенотипы у взрослых, а также проверка роли конкретных метаболитов (например, короткоцепочечных жирных кислот) как сигнальных молекул между кишечником и развивающимся мозгом.
Как это проверяли
Авторы сравнили потомство обычных (колонизированных) мышей (CC) и стерильных (GF), а также применили перекрёстное вскармливание сразу после родов:
- CC → CC (контроль),
- GF → GF (стерильные матери и стерильные детёныши),
- GF → CC (стерильные детёныши, пересаженные к обычным матерям).
На 7-е сутки жизни у GF → GF и GF → CC число клеток в PVN было ниже, чем у CC → CC, при неизменном объёме PVN — отсюда снижение клеточной плотности. Во втором эксперименте у взрослых GF-мышей также подтвердилось снижение числа клеток в PVN (при прежнем объёме). Вывода два: 1) повышенная гибель клеток у GF-новорождённых оставляет постоянный след; 2) поскольку пересадка к «микробным» матерям в день рождения не исправила дефицит, материнская микробиота задаёт траекторию развития уже в утробе. Дополнительно отметили, что статус микробиоты и пол влияют на общий размер переднего мозга (у GF — больше; у самок — больше), без взаимодействия факторов.
Почему это важно
PVN — узловая структура, которая запускает ось стресс-реакции (HPA), участвует в регуляции автономных функций, водно-солевого баланса и питания. Если микробиота матери «подкручивает» число нейронов в PVN ещё до рождения, это добавляет прямое анатомическое звено в растущую цепочку «микробиота — мозг» и помогает объяснить, почему ранние факторы (питание, антибиотики, родоразрешение) так ощутимо отражаются на стрессоустойчивости и поведении в дальнейшем. Результат логично укладывается в предыдущие наблюдения о влиянии микробиоты на перинатальную гибель нейронов и микроглию.
Что это не доказывает (ограничения)
- Это модель на мышах: перенос на человека требует осторожности.
- Изменение «числа клеток» не говорит напрямую, какие именно нейроны затронуты (например, CRH-нейроны PVN) и как меняется функция (стресс-гормоны, поведение).
- Механизм остаётся открытым: это микробные метаболиты (короткоцепочечные жирные кислоты и др.), иммунные сигналы или взаимодействие с глией? Нужны таргетные эксперименты. (Обзорная литература указывает на оба пути.)
Что дальше
- Одноклеточные транскриптомы PVN после манипуляций с микробиотой (включая селективные «спасения» метаболитами) и функциональные тесты оси HPA.
- Проверка, насколько «окно чувствительности» ограничено внутриутробным периодом и ранним постнатальным временем.
- Связь анатомических изменений с поведенческими фенотипами у взрослых (реактивность к стрессу, питание, сон) — и можно ли их «починить» позднее.
Источник: Hormones and Behavior, Epub 21 апреля 2025; печать — июнь 2025 (том 172, статья 105742). Авторы: Y.C. Milligan и др., Институт нейронаук Университета штата Джорджия. https://doi.org/10.1016/j.yhbeh.2025.105742
