
Весь контент Web2Health проверяется медицинскими экспертами, чтобы обеспечить максимально возможную точность и соответствие фактам.
У нас есть строгие правила по выбору источников информации и мы ссылаемся только на авторитетные сайты, академические исследовательские институты и, по возможности, доказанные медицинские исследования. Обратите внимание, что цифры в скобках ([1], [2] и т. д.) являются интерактивными ссылками на такие исследования.
Если вы считаете, что какой-либо из наших материалов является неточным, устаревшим или иным образом сомнительным, выберите его и нажмите Ctrl + Enter.
У носителей кишечной палочки, продуцирующей колибактин, риск развития колоректального рака увеличивается в три раза
Последняя редакция: 23.08.2025
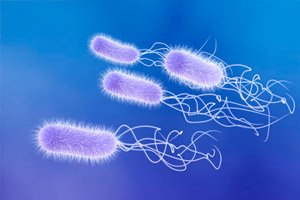 ">
">В eGastroenterology вышло исследование японских онкологов и гастроэнтерологов: у людей с семейным аденоматозным полипозом (FAP) на образцах полипов искали кишечную палочку, несущую «островок» pks и вырабатывающую генотоксин колибактин. Выяснилось, что у пациентов, которым уже ставили диагноз колоректального рака, наличие такой бактерии в полипах встречалось втрое чаще, чем у пациентов без онкологического анамнеза. Это подкрепляет идею, что отдельные микроорганизмы микробиома могут ускорять канцерогенез в генетически уязвимой толстой кишке.
Фон исследования
Семейный аденоматозный полипоз (FAP) - наследственный синдром из-за мутаций APC, при котором толстая кишка усыпана аденомами и риск колоректального рака (КРР) крайне высок уже в молодом возрасте. Даже при активном эндоскопическом контроле и медикаментозной профилактике часть пациентов быстро прогрессирует, что подталкивает искать дополнительные «ускорители» канцерогенеза, в том числе среди компонентов кишечного микробиома.
Одним из таких кандидатов давно считается колибактин - генотоксин штаммов Escherichia coli, несущих островок pks. В моделях и клинических сериях он вызывает ДНК-повреждения, характерные задержки клеточного цикла и формирует узнаваемую мутационную подпись SBS88/ID18 в эпителии толстой кишки; у части пациентов со спорадическим КРР наличие этой подписи выделяет особый молекулярный подтип опухоли. Это делает pks+ E. coli потенциальным модификатором риска - особенно там, где генетический фон уже «готов» к опухолевому росту.
Однако данные по наследственным синдромам были фрагментарны: большинство работ изучали спорадический КРР, а не предраковые состояния вроде FAP; часто использовали каловые пробы или «смешанные» ткани, что мешало связать бактерию именно с полипами. Кроме того, редко параллельно оценивали тканевые маркёры ДНК-повреждения (например, γ-H2AX) и воспаления, чтобы приблизиться к механизму. Поэтому остаётся открытым вопрос: встречается ли pks+ E. coli чаще именно в полипах пациентов с FAP и ассоциирована ли она с клиническими признаками более высокого онкориска.
Новая работа в eGastroenterology адресует этот пробел: на когорте пациентов с FAP, преимущественно без предшествующих колоректальных операций, исследователи искали pks+ E. coli в полипах и сопоставляли её присутствие с анамнезом КРР и тканевыми маркёрами повреждения ДНК/воспаления. Такой дизайн позволяет оценить не только распространённость предполагаемого фактора риска, но и его биологический след в самой мишени канцерогенеза - аденомах толстой кишки при FAP.
Контекст: почему именно колибактин и FAP
Колибактин-продуцирующие E. coli (pks+ E. coli) уже находили у ~67% пациентов со спорадическим колоректальным раком и примерно у 21% здоровых людей; в экспериментах токсин вызывает повреждение ДНК (γ-H2AX), задержку клеточного цикла и ускоряет опухолеобразование. При FAP - наследственном состоянии на фоне мутации APC - кишка усыпана аденомами, и любая «добавка» к риску особенно критична. Новая работа как раз изучает не после удаления кишки, а у пациентов с сохранённой толстой кишкой - то есть в максимально «естественной» для микробиоты среде.
Как это проводили
С января 2018 по август 2019 года у 75 пациентов с FAP брали образцы полипов и слизистой во время эндоскопии и тестировали на pks+ E. coli. Параллельно оценивали клинические факторы и выполняли иммуногистохимию на маркёры повреждения ДНК (γ-H2AX) и воспаления (IL-6, IL-1β). Отдельно сравнили пациентов, не перенёсших колоректальные операции, чтобы исключить влияния хирургии на микробиоту.
Главные результаты
У неоперированных пациентов с FAP носительство pks+ E. coli в полипах значимо чаще обнаруживалось у тех, у кого ранее уже был рак толстой кишки: отношение рисков 3,25 (95% ДИ 1,34-7,91). В полипах с pks+ бактериями сильнее окрашивался γ-H2AX (признак ДНК-повреждения), а IL-6 имел тенденцию к повышению; IL-1β существенно не менялся. У курильщиков pks+ E. coli встречалась чаще, тогда как пол, возраст и алкоголь значимой связи не показали. Примечательно, что у пациентов после операций на толстой кишке pks+ бактерии в полипах не выявлялись - косвенный намёк на то, насколько операция меняет микробное «поле».
Что важно запомнить (в двух шагах)
- Связь есть, но причинность не доказана: исследование ассоциативное и задумано как генерирующее гипотезу. Нужны большие многоцентровые когорты и продольные наблюдения.
- Биомаркёры «следа» колибактина понятны: γ-H2AX и сигнал воспаления (IL-6) усиливались в pks+ полипах - механистически это вписывается в картину колибактин-индуцированной нестабильности генома.
Почему это важно для пациентов с наследственным риском
FAP - редкое, но тяжёлое состояние: аденомы появляются десятками и сотнями, а риск рака высок уже в молодом возрасте. Если часть этого риска «подогревает» конкретная бактерия, появляются новые рычаги профилактики. В исследовании авторы подчёркивают, что pks+ E. coli не была связана с «плотностью» полипов (тяжестью FAP) - то есть вероятнее речь именно о качественном ускорителе канцерогенеза, а не просто «спутнике» множественных аденом.
Что это может означать на практике (пока гипотетически)
- Скрининг микробного риска: поиск pks+ E. coli в биоптатах/стуле как часть наблюдения за пациентами с FAP.
- Точечная профилактика микробиоты: таргетирование колибактина (бактериофаги, селективные антибиотики, пробиотики/постбиотики) - только после клинических испытаний.
- Маркёры ответа: мониторинг γ-H2AX, IL-6 как индикаторов микробно-индуцированного стресса на фоне вмешательств.
- Поведенческие факторы: отказ от курения выглядит особенно актуальным, учитывая более высокую частоту pks+ у курильщиков.
Ограничения, о которых честно сказали сами авторы
Небольшая выборка и единый центр ограничивают статистическую мощность; не все факторы образа жизни (например, диета) учтены; возможен смещённый выбор полипов; у части пациентов не было генетической верификации из-за ограничений законодательства. Авторы отдельно отмечают, что нужны подтверждения на внешних когортах и поиск «подписи» колибактина в мутационном профиле (SBS88) - это помогло бы перейти от ассоциации к более уверенным выводам о вкладе токсина.
Что дальше
Логичный следующий шаг - многоцентровые исследования до/после вмешательств (полипэктомия, санация микробиоты), интеграция микробиомных тестов с клиникой и молекулярными маркёрами, а также проверка, снижает ли эрадикация pks+ E. coli реальный риск рака у людей с FAP. Если гипотеза подтвердится, мы получим редкий пример того, как точечный микробный фактор можно сделать целью профилактики рака при наследственном синдроме.
Источник: Ishikawa H., Aoki R., Mutoh M., и соавт. Contribution of colibactin-producing Escherichia coli to colonic carcinogenesis. eGastroenterology. 2025;3(2):e100177. https://doi.org/10.1136/egastro-2024-100177
